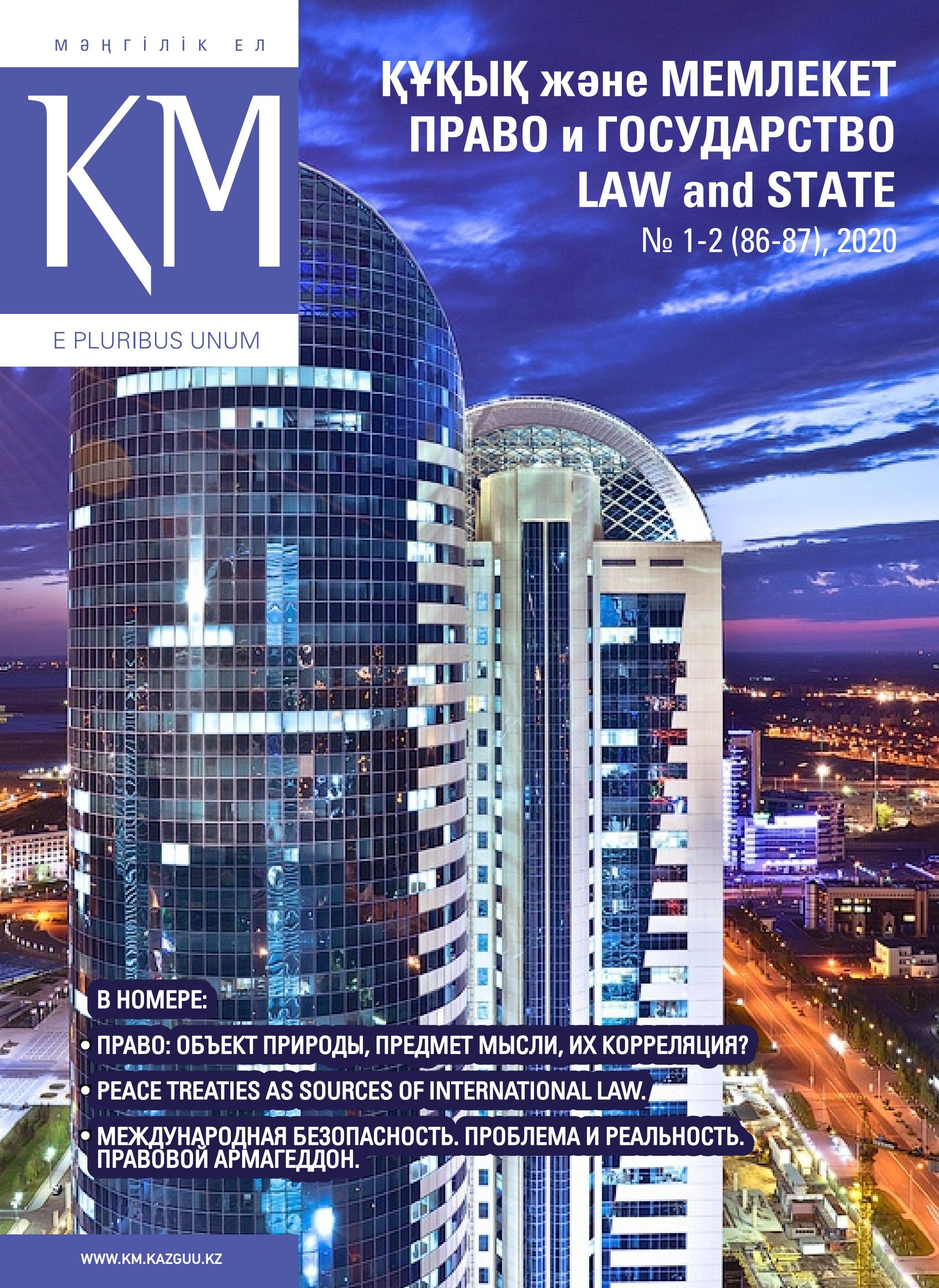- Главная
- Архив
- № 1-2 (86-87), 2020
- Право: объект природы, предмет мысли, их корреляция?
Право: объект природы, предмет мысли, их корреляция?
Ч. Варга,1
Центр социальных наук
Академии наук Венгрии
(Будапешт, Венгрия)
Перевод с англ. – М.А. Беляев,2 Ч. Варга, Е.Г. Самохина;3
аннотация и биографическая информация о Ч. Варге
– М.А. Беляев.
В статье автор утверждает, что концепт естественного права есть не что иное как продукт натурализации, выполненной с помощью ряда интеллектуальных методов. Исследуя природу права, мы сталкиваемся с противоречием: с одной стороны, правовые идеи есть результат движения логического ума, поэтому они не находятся нигде за пределами человеческой культуры, атрибутируемой тому или иному локальному сообществу. С другой стороны, содержание этих идей не является произвольным. Более того, столкновение с этими идеями в повседневной социальной практике демонстрирует нам их неотменяемость, в чем-то сходную с плотностью материальных тел. И как физические объекты имеют собственные законы (статика и динамика), так и правовые идеи несут заключенные в себе непреодолимые и неуничтожимые смыслы, оторвавшиеся от источника своего происхождения и получившие самостоятельное бытие в сфере идеального. Это обстоятельство накладывает ряд логико-эпистемологических ограничений на познавательные усилия, предметом которых выступают правовые нормы. Автор тем не менее далек от уверенности в том, что данные ограничения уже можно кодифицировать в виде аксиоматической системы предписаний, вместо этого он призывает читателей продолжить исследование сложной сферы юридических явлений, опираясь как на системно-структурные интуиции, так и на антропологический дискурс о сущности человека и его предназначении.
Ключевые слова: естественное право, социальный порядок, социальные нормы, мышление, логика, концептуализация, принцип конвенциональности, юридическое мышление, теория права, юридическая методология.
Мы приписываем понятие естественного права тому, что считаем порядком вещей, обусловленным природой в соответствии с ее собственными правилами, в том виде, в каком он был создан Творцом и в каком он дошел до наших дней под влиянием схемы дивергенции Дарвина (branching pattern of evolution).4 Что же представляет собой естественное право? Это то, что в качестве нормы можно логически вывести из вышеуказанного путем интеллектуальной реконструкции. Что мы утверждаем в ходе этого процесса? Описываемый феномен не является проекцией нашей собственной воли, следовательно, его действие имеет иной источник, ведь, объявив определенный порядок вещей естественным правом, мы всего лишь придаем форму выражения тому, что и так существует в природе. Иначе говоря, совершенное нами – это не акт создания, описываемый термином constitutio, а констатация (declaratio) доступным человеку способом факта существования чего-то уже существующего.5 Как мы это делаем? Обживать природу, которую мы считаем данностью, помогает нам наше мировоззрение: через его призму мы ищем в ней такие взаимосвязи, которые позволяют предположить, что это «освоение» может облегчить нам осуществление человеческой миссии, т. е. служение человеческим ценностям, если и поскольку мы, превращая эти ценности и их моральные уроки в инструмент, сделаем их правилами поведения. Как мы при этом поступаем? Если можно так выразиться, мы заставляем мертвый материал заговорить. Иными словами, из совокупности распознанных аспектов и взаимосвязей, количество которых может быть бесконечно, мы – по большому счету, произвольно, ведь это делается в рамках и в угоду единственной, определенной/выбранной нами, понятной нам и поддающейся обоснованию интерпретации и практической цели, – отбираем отдельные элементы и тем самым (например, называя это «природой вещи/вещей») характеризуем порядок, существующий в них самих.
Существует ли подобное явление в природе? Да, несомненно, хотя его распознавание человеком сразу приобретает созидательную силу, если при этом происходит рождение или формирование уже второй природы – мира, сотворенного человеком.6
При этом, конечно, нужно понимать, что, даже констатируя существование естественного права, мы не имеем доступа к собственно вещам. Мы находимся «здесь», а природа – «там». Подобно тому, как на театральной сцене или в литературе мы с помощью слов имитируем прошлое, точно так же на языке концептуального познания и посредством логики происходит воспроизведение природы. Даже отчасти познав и до некоторой степени поставив на службу своим целям определенную часть действительности, человек не может просто изолировать или перемещать элементы единого и неделимого целого. Наш интеллект способен лишь на то, чтобы делать утверждения касательно вещей и их предполагаемых взаимосвязей – всего лишь замещающие и представляющие, т. е. символизирующие их утверждения. Дальнейшие операции в ходе нашего мышления и познания выполняются уже с этими утверждениями. Так что мы даже не приближаемся к вещам, а только даем название некоей – если можно так сказать – ссылке или зависимости, существование которой внутри самих вещей мы предполагаем на основе своих более или менее правильных либо, как бывает, совершенно неверных наблюдений. Судить об адекватности этого названия на данном этапе мы еще не можем. Ведь до сих пор мы оперировали только словами, произнося их от себя, адресуя их себе же и, будучи оторванными от всего прочего, по большому счету, о себе самих: мы поступаем самостоятельно, по своему усмотрению, на своем уровне человеческих возможностей [facultas], позволяющем осмысливать жизнь и определяемом степенью развития нашего интеллекта, эмоциональной сферы, интуиции и подсознания, движимом инстинктами и т. д., порой не особо смущаясь реальностью. Средством обратной связи – если и поскольку она состоится – может быть получение или не получение желаемого результата при переходе от цепочки словесных операций к практическим действиям, однако по причине чрезвычайной сложности даже элементарных процессов из-за вмешательства самых разнообразных случайностей предметом этой обратной связи не обязательно и не непосредственно станет данное нами название, его, если можно так сказать, правильность, т. е. адекватность для выражения того или иного значения.
При выполнении вышеупомянутых операций мы руководствуемся законами логики. Однако термины, которые мы используем в своих утверждениях, на этапе осмысления возможных логических связей начинают работать не просто как слова, но как средство выражения понятий; мы достигаем этого за счет прояснения содержания и диапазона значения этих терминов, их упорядоченного расположения и определения, т. е. методами логического анализа, выраженного в языке. А что же такое язык? Это последовательность членораздельных элементов: слов, которые являются самостоятельными смысловыми кирпичиками, предложений как самостоятельных утверждений, в которых слова (в большинстве человеческих языков) могут располагаться только в последовательности, заданной их функцией, и, наконец, последовательности предложений, в которых смысл исходного утверждения представлен в виде строки из дискретных, т. е. отделенных друг от друга, последовательностей, следующих друг за другом в определенном, доступном нашему пониманию порядке.7 В противоположность этому действительность – это не что-то дискретное, а неразрывно связанное целое, притом даже не тождественное себе, поскольку интеллектуальная репрезентация, то есть концептуальная проекция ее отдельно взятых моментов представляет в виде статичного явления то, что на деле имеет характер непрерывного и необратимо прогрессирующего процесса, обладает живой динамикой. Итак, действительность представляет собой такое единство, в отношении которого простая ссылка на его предполагаемые связи или отношения (т. е. его номинация, концептуализация, а также изъятие из непрерывности процесса и перенос в более уловимую категорию «события», трансформация в факт, происходящие, по сути, как акт человеческой деятельности) создает иллюзию механической составленности целого из частей, фрагментарности и возможности фрагментации. Другими словами, даже самое лояльное и полное человеческое познание принципиально не может быть ничем иным, кроме как сознательным упрощением (reductio; simplificatio) в попытке постичь сущность вещей, с главной целью запустить процесс человеческого мышления и общения на эту тему (т. е. о чем угодно и обо всем), а именно – сделать эту действительность предметом интеллектуальной рефлексии. Таким образом, между действительностью и понятием можно заранее и принципиально исключить всякое тождество, согласие или полное совпадение – это различающиеся формы существования разных плоскостей: одна из них существует в реальности, а вторая – в воображении, как результат идеализирующей проекции человеческого сознания.
Тогда из этой многократной обусловленности с неизбежностью следует, что человек не имеет и не может иметь объективного взгляда на мир: любой человеческий подход по определению зависит от заранее сформированного под влиянием нашего мировоззрения (которое различается в разных культурах и в разные эпохи, оценивает отдельные социальные явления в их моментальном контексте и с этих позиций отражает актуальные (hic et nunc) общественные договоренности) предубеждения [Vorverständnis]. Как следствие, когнитивный, интеллектуально-реконструктивный подход человека к этому вопросу в принципе не может привести ни к чему иному, кроме как к некой релятивизированной альтернативе, ведь даже в лучшем случае я прихожу к определенному результату, поскольку на основе моих предварительных допущений не мог прийти ни к чему другому. Однако, поскольку потенциальные внутренние взаимосвязи вещей до бесконечности многообразны, не существует способа каталогизации всего диапазона этих возможностей или просчета результатов, к которым могли бы привести иные (какие?) предварительные допущения. Как человеческие существа, единственное, что мы можем сделать в такой ситуации, – способом, ценным для человека и, в конечном счете, полезным с точки зрения человеческой практики [praxis] в рамках некоего социального консенсуса, – выделить из этой бесконечности некоторые конечные аспекты.
А что же происходит в рамках научного подхода? В ходе концептуализации происходит ревизия идентичности [identitas]; при этом все, что (в силу тех или иных причин, но всегда исключительно с позиций существующего целенаправленного круга интересов) оценивается как отличное, признается различием [differentia] и исключается из этого определенного человеком тождества. На первый взгляд это кажется полностью обезличенной логической игрой, однако обманчивость этого впечатления быстро становится очевидной. Ведь предметом поиска логических связей и выведения заключения может быть только утверждение, сделанное человеком. Предметом логики является не действительность, а копия одного из ее срезов, сформировавшаяся в сознании человека, утверждение, выраженное в концептуальных терминах. Логика означает, что если тождество, описывающее действительность, содержит концептуальное утверждение k1 с истинностью i, то вопрос об истинности концептуального утверждения k2 будет предрешен на основе вышесказанного; если же тождество одновременно содержит концептуальные утверждения k1 и k2 с истинностью i, то из этого вытекает заранее предопределенное концептуальное утверждение k3 с его истинностью i.8 При этом, впрочем, как и в случае констатации относительной произвольности именования [nominatio] и концептуализации [conceptualisatio], речь не идет – да и не может идти – о том, насколько обоснованным было, констатируя различие, изолировать из определенной (на взгляд человека) совокупности идентичных элементов какой-либо компонент/член на основе поляризованной дихотомии A и non-A. Обосновать свой подход мы можем только с позиций нашего мировоззрения, ведь, собственно говоря, мы всего лишь спроецировали человеческую мысль на окружающий мир. Вообще, мы проецируем на «немые», непознаваемые для человека вещи их человеческую интерпретацию, чтобы создать возможность для реализации внутри них своеобразного господства человеческой воли – осмысления, интеллектуального освоения внешнего мира, оказания на него влияния или его формирования, обеспечения его постоянства и непрерывности либо, наоборот, изменения. А это уже экстраполяция, которая не относится к сфере и (или) компетенции логики, а представляет собой ролевую игру, в рамках которой человеческая практика генерирует действительность, создавая уже упомянутую вторую реальность на уровне человеческого общества, что, будучи актом творения чего-то, ранее не существовавшего, начиная с этого момента может оцениваться исключительно в категориях онтологии.9
Естественное право? В наших предыдущих рассуждениях мы как бы вытеснили этот термин из предложенного нами же определения, ведь в русле вышеизложенного практически любое право – как намерение, направленное на создание порядка, или попытка его реализации в виде законодательных норм – является естественным правом, поскольку оно исходит из единственного общего и целесообразного основания (исключительного источника): кто есть мы? В какую почву упали семена божественного акта творения? И как нам распорядиться собственными возможностями и потенциалом нашего окружения? Ведь хорошо известно: какие бы цели мы ни ставили перед собой, исходить нужно только из собственных сил, опираясь на физические и духовные ресурсы, отмеренные каждому из нас, на свои человеческие способности, дальнейшее развитие и дифференциация которых помогут нам отыскать/создать для себя дополнительное подспорье (как символическое продолжение наших рук и ног).10 Когда же, обретя уверенность в себе, мы направимся к фантастическим вершинам, опыт нашей реальной жизни все равно останется для нас опорой и поддержкой.11 Точно так же для здорового или больного человека ностальгия, фантасмагория или горячечный бред всегда сотканы из предыдущих воспоминаний и потому тоже являются своего рода реализмом, только с другой канвой или в другой конфигурации, демонстрируя возможности своей новой (неизвестной до сего момента и, может быть, даже более гармоничной) версии.12
Очевидно, что все сказанное в контексте естественного права о познании и познаваемости присуще любому виду человеческого познания (cognitio), включая так называемое научное познание.
Так что же тогда мы привыкли называть естественным правом? Пожалуй, это в первую очередь протест [protestatio], требование восстановления [restauratio] в противовес чему-то, что в рамках консенсуса традиционно провозглашается или подлежит провозглашению в статусе права, т. е. справочная основа, опираясь на которую мы пытаемся дискредитировать функционирующее в качестве права нормативное требование, обвинив его в фальсификации стоящей за ним природы, под знаком формирования/преобразования более гуманистического будущего.
Ведь нужно понимать, что в праве изначально кроется двойное противоречие. Точнее говоря, это двойная фальсификация и одновременно – двойное сокрытие, которое, конечно, разоблачается всякий раз, когда оно ставится под сомнение. О чем идет речь? Уже первоначально, в своем генезисе, право, с одной стороны, является правом постольку и настолько, поскольку и насколько оно отличается от живущей в нас, унаследованной или благоприобретенной (в процессе обучения и социализации) мотивации и системы морально-нравственных ценностей. Ведь право, о котором мы говорим, является не внутренним, а внешним – вопреки морали, которая исходит изнутри человека; в случае если она сильно расходится с моралью его окружения, оно более или менее мягким или жестким давлением по крайней мере попытается убедить человека в необходимости приспосабливаться к большинству. Что касается права, то оно по определению исходит из позиции силы, происходит от законной власти. В этом заключены одновременно его сила и легитимность, ибо право путем формального нормотворчества устанавливает рамки и границы для в целом свободной деятельности человека. От приказа право отличается тем, что оно не имеет ни личной направленности, ни конкретного характера. Будучи одинаково и одновременно обращено ко всем адресатам, оно с абстрактной универсальностью описывает способы желательного или нежелательного поведения в определенных ситуациях. Тем не менее уже самим фактом своего существования, всей своей сущностью право подчеркивает безличную потребность в обеспечении общественного блага. Эта потребность коренится в самом существовании/функционировании социума как такового, а ее первооткрыватель/заявитель, согласно изначальному этосу права, является не более чем посредником, которому выпала честь ее провозглашения,13 ведь, между прочим, именно он, как лицо, наделенное властью, несет первоочередную ответственность за благосостояние сообщества. С другой стороны, что следует из вышесказанного, этот нормативный акт должен быть таким, как если бы он сформировался сам по себе в соответствии с вышеупомянутым допущением, без сознательного участия законодателя, с той разницей, что в этом случае ему не доставало бы дополнительного импульса и силы, придаваемых организацией. Согласно этому невысказанному утверждению, он, таким образом, уже существует в самом сообществе, независимо от степени своей осознанности. А если это так, то его экстернализованное/экстернализирующее провозглашение является не более чем побочной необходимостью, объясняемой отчасти потребностью в однозначности, отчасти – дополнительными преимуществами организации, а еще – изменениями, происходившими на протяжении истории человечества, начиная с предков, живших в естественных условиях Золотого века [Golden Age],14 до современности с ее сложной социальной дифференциацией: ухудшением общественных нравов, отступлением от моральных принципов, распадом паствы за отсутствием дисциплинирующей силы, выходом допустимых частных случаев девиантной практики на уровень практически всеобщего масштаба. Поэтому не случайно самые древние найденные памятники законотворчества всегда были написаны от имени божества и применялись с опорой на данные божеством полномочия (конечно, не только с целью подвести правление монарха под легитимную основу, но и для выражения того, что тем самым лицо, облеченное властью, фактически восстанавливает в правах изначально созданный в земном мире по воле божьей порядок вещей); следовательно, достаточным обоснованием своевременности нормативного акта в любой момент времени служило заявление о намерении такой реставрации. Ведь этот прекрасный идеал рисовал давно ушедшую эпоху, Золотой век, когда во всем царил порядок, человек жил как естественное существо, дитя природы, однако с тех пор нравы испортились, люди стали притеснять друг друга, в особенности вдов, сирот и беспомощных,15 поэтому и необходимо возродить старый уклад.
Тем временем легитимность шаг за шагом, медленно и робко секуляризовалась; параллельно с этим кодифицированное право также приобретало характер волеизъявления,16 и наряду с возрождением [restitutio] «старого доброго обычая»,17 вытесняя его, возник новый порядок, а вместе с ним — и идея о формировании средствами права [constitutio]18 нового или усовершенствованного общественного устройства, которая затем постепенно, опираясь на трансформацию правового волюнтаризма в рационализм, теперь уже облачившись в квазинаучные одежды, пройдя столетие социальной инженерии [social engineering],19 к настоящему моменту достигла своей кульминации в программе изменения систем национальных верований20 (и тем самым имплицитного «свержения с пьедестала» – за некомпетентностью – народа, великого на уровне высказываний).
То подкрепляя эти инициативы, то беря их под свой контроль, то отвечая обратной связью, то тормозя, то выдвигая контраргументы, то посылая откровенно провокационные импульсы или оказывая противодействие, всегда во всеоружии, естественное право снова и снова проявляет себя с энергией и неизменным запалом, присущими духу эпохи просвещения, как идеология прав человека и как его же – человека – боевое оружие,21 создавая контрапункт и выполняя функции указателя и эталона.
Все это составляет миссию человека, его социальной борьбы: порождать идеи не только в их обособленности, но обобщать и поднимать их до общечеловеческого уровня, воплощать свои принципы в виде некоего абсолютного начала и таким образом обеспечивать невозможность пренебрежения ими.22
Свидетельство древней человеческой мудрости, две эти формы выражения, одновременно стоявшие у истоков и до наших дней составляющие основу практически всех известных прав, во все времена находятся в подлежащем разрешению, волнующем контрасте с непрерывным совершенствованием, все новыми и новыми формами социальной борьбы, как непреходящее убеждение человечества,23 как вечный контрапункт между человеческой склонностью к утопии и осознанием бесконечных возможностей, опирающимся на достижения современного общественного устройства, в революционном упоении медового месяца от различных временных триумфов.
Одна из них – это, в терминах нашей христианской символики и библейского культурного наследия, символическая сила Страшного суда: возможность оценить истинные вес и значение человеческого намерения и действия исключительно в контексте божественного и через его призму, что, в противоположность континентальному обычаю сведения понятия ius (право) к понятию lex (закон), допускает изначальную эмпиричность англосаксонского права, позволяет индуктивно осмыслить прошлый опыт и поощряет индивидуальный подход и формирование нового суждения в каждом случае с опорой на прецедент, причем везде проходят параллели понятиям воссоздания/возрождения в классическом еврейском и исламском правосознании.
Вторая – это вечный вопль «Из бездны взываю к тебе, Господи!» – отчаянный призыв с мольбой о помощи,24 который свидетельствует об изначальной ограниченности всего человеческого и единственном (в трансцендентальной перспективе) источнике надежды.
Это сопровождает нас и в современной жизни; в своих устремлениях по совершенствованию мира мы размышляем над этими конфликтами и ищем возможные и доступные пути их разрешения.
Это наложило свой отпечаток также и на основные усилия, отраженные в антропологии права и в истории институтов более или менее формального/формализуемого права. Обо всем этом свидетельствует стремление к поиску правового авторитета, затем – конкурирование правовых авторитетов и их институциональная борьба за верховенство, так же как и борьба за повторное формирование правового решения / юридического суждения, за возможность пересмотра, воплощением которой является институт апелляции, и, в качестве возможного заключительного аккорда, – за право на помилование; кроме того, создание параллельных процедур формирования суждения, использующих иной аппарат для поддержки или изменения формальной внутренней логики права, и не в последнюю очередь (на первый взгляд происходящее только в теоретической плоскости) – пересечение как формализованных, так и деформализованных течений и тенденций, имеющее место даже в самых современных и развитых правовых системах, а также – вспыхивающая вновь и вновь с исторически сложившимся постоянством борьба за приоритетность различных подходов.
Таким образом, следует понимать, что в меняющемся ходе борьбы новым элементом всегда является контекст, а вовсе не человеческий опыт, скрытый в глубине всех вещей. Ведь, пользуясь все более современным оружием, мы вновь и вновь разыгрываем все те же прежние битвы, не в состоянии когда-либо по-настоящему освободиться от того, что нам дано для нашего человеческого бытия в виде возможности или доступности чего-либо в силу наших способностей.
Итак, независимо от того, познаем ли мы право в его собственном представлении, в виде набора предписаний или рассматриваем его как некий аспект социальной реальности,25 не выделяя его из других объектов познания, оно все равно остается эфемерным явлением. У него можно обнаружить множество признаков, но даже если все они достоверно являются его истинными составляющими, аспектами и предпосылками, сами по себе они точно так же не способны правильно описать право и в совокупности составить тот общественный феномен, который известен нам под его названием, как и, несмотря на то что из бесконечной серии изолированных исследований в области биологии и других наук о жизни хотя и может сложиться нечто под названием scientia (дав нам повод для законной гордости), все же на этой основе мы не только не сможем искусственным путем произвести на свет живой организм, но даже просто понять, что же из всего этого способно породить, в конечном счете – определить, жизнь.
Современная философия придерживается мнения, что хотя, действуя по образцу Naturwissenschaften (естественных наук), Sozialwissenschaften (общественная наука), в упоении от собственной позитивации, тоже выступила как наука, опирающаяся на причинный или квазипричинный подход, все, что связано с человеком, т. е. все то (пусть даже в объективированной форме проецируемое человеком из себя самого), чем в конечном счете (например, в социальных измерениях – в межсубъектном пространстве, т. е. в общей области межличностных отношений) мы сами являемся, невозможно просто свести к формам (институтам, подходам, поднятым до их уровня профессиональным деонтологиям), нами же и объективированным. Все это остается в сфере гуманитарной, со всей необозримой сложностью, глубиной и (не в последнюю очередь) неисчерпаемостью, которые и есть человек.
Интересно, но и закономерно, что хотя – в некоторых направлениях – вопрос о роли права был разрешен с позиций человеческих потребностей и человеческой практики, на этом уровне, в конечном итоге, можно столкнуться с другой крайностью в виде теоретического направления, имеющего последователей, стремящегося раскрыть истинное предназначение права, когда право рассматривается как зеркало трансцендентальной ориентации человека, смысла его бытия и жажды к поиску и реализации ценностей. В этом проглядывает однозначно стоящая за самыми универсальными религиозными (интеллектуальными) исканиями человечества идея «великого синтеза»26 как своего рода окончательного единства материальности практики и идеальности духовных стимулов.27
И все же самым важным во всем этом является осознание того, что мы живем в опасную эпоху. Опасную, потому что современные Евы вкушают все новые яблоки, а в безмерном самодовольстве, присущем нашему времени, у нас почти не осталось ориентиров.28 Нашу беспомощность еще более усиливает то, что доводы здравого смысла, включая ответы/подтверждения повседневной практики, подавляются или отрицаются целым рядом поощряемых на системном уровне искусственных смыслов, а вместе с этим оттесняется как нечто несущественное и нерелевантное то, что через уникальное, происходящее здесь и сейчас, присутствие являет собой сам человек. Именно это происходит и в сфере права – бесстыдное завладение этим даром, а затем, после превращения его в оружие, – попытка формального, диктуемого вышестоящим «я», бездумного и беспощадного применения (со ссылкой на верховенство закона) права, официально признанного и закрепленного за человеком как его исключительная привилегия.
На наших глазах как в странах, считающихся образцовыми с точки зрения их материального богатства и места/роли в развитии науки, так и в отечественной практике один за другим рождаются приговоры, которые как деспотические носители нового мировоззрения и одновременно безжалостные вестники мифической мировой экономики крушат достижения тысячелетней мысли поколений, освобождая тех, кому больше дано, от бремени дополнительных социальных издержек и все более лишая обездоленных (жертв преступлений, совершенных другими) тех базовых инструментов защиты, которые были известны человечеству на протяжении его истории. Независимо от того, стоят ли за этим правовые формулировки, отточенные командами адвокатов, или индивидуальные суждения представителей судебной власти, выступающих в аналогичной роли, они, как правило, безупречны, то есть, как ни прискорбно, в таких культурах побеждающая в судебных процессах правовая/юридическая аргументация, следуя букве закона или заполняя на собственный вкус – с позиции «аморально, но законно», неприемлемой в мировой практике, но легализованной в нашем отечестве, – кажущиеся пустоты, созданные пробелами законодательства, накапливаясь и укрепляясь с каждой пощечиной, которую формально понятое верховенство закона отвешивает социальному доверию и солидарности, (само)провозглашается как новая победа этого верховенства. А ведь при более пристальном рассмотрении это не что иное, как разгон социальной самоорганизации, продолжающийся якобы под знаменем права, а на деле – в духе абсолютно чужеродной, в своей односторонности направленной против человека и общества, искусственной идеологии, ранее провозглашавшейся в нашей стране на уровне конституционного суда.
Ибо за правом, по сути, изначально стоит сам человек; как правило, нормальный человек, который на протяжении своей истории развивает свои способности, но никогда не доводит этот процесс до такой степени отчуждения, чтобы повернуть против самого себя созданный им же искусственный инструмент. За правом стоит человек, который, овеществляя, должен сохранить контроль над вызванными к жизни вещами. Среди прочего, именно это скрывалось в более уравновешенные эпохи за понятием judicium – мудрость закона наравне с практической мудростью, которую олицетворяли пользовавшиеся безусловным уважением деревенские судьи и кадии.29
Ведь человек осознает (по крайней мере, должен осознавать), что в сотворяемом он воспроизводит самого себя; и еще – в идеале – он должен понимать, что, играя сотворенным, он фактически играет с самим собой в опасную – многоисходную, формирующую человеческие судьбы и потому требующую ответственности – игру.
Потому что право – это не что иное, как социальная игра. Мы играем словами, а они – посредники и заместители смысла. Наделяя инструмент самостоятельностью и превращая его в самоцель, мы сами можем с легкостью превратиться в деспотов, несущих разрушение.
Все это извечные человеческие дилеммы, требующие все нового и нового осмысления. Актуальности этим вопросам в наши дни придает тот факт, что за последнюю четверть века ответственность за судьбы нации вернулась в руки самой нации, чтобы она – пусть не в вакууме и не без попыток влияния/вмешательства в этот процесс то с одной, то с другой стороны – сама (а юрист, исходя из фундаментальных принципов своей профессии добавил бы: и исключительно она сама) принимала решения относительно своего будущего. Показательно, что научные работы, лежащие в русле этой логики, часто вызывают реакцию, сравнимую с бурей мирового масштаба, хотя, по сути, в них лишь по-новому переосмысливаются ранее обнародованные исследовательские программы.30 Например, установка на миссию, за реализацию которой современная Европа взялась с момента своего рождения. Суть этой миссии такова: за счет формализации права сделать процесс констатации конкретного правового прецедента механическим, насколько это возможно, таким образом обеспечив предсказуемость и на ее основе – гарантии правовой определенности и правовой защищенности. Но подобного рода задаче может соответствовать не более чем лингвистическая «скорлупа» права. Ведь, по существу, весь процесс определяется не чем иным, как, с одной стороны – на деле – базовой формулой обоснования решений, принимаемых во имя закона, и стилистическим, канонизированным эталоном рассуждений, ведущих к рождению этой формулы, а с другой стороны – нормативно – традиционным для юридических кругов и передаваемым по наследству менталитетом, принимаемым в качестве деонтологии юридической профессии, или, иначе говоря, всем характерным для нее способом мышления, речи и письма.
М. Коскенниеми так характеризует это научное затруднение. «Если бы, – писал он, – мои начальники в министерстве [иностранных дел] захотели услышать от меня, что суть право, а я сказал бы, что это глупый вопрос, и вместо ответа пустился бы в рассуждения о национальных интересах Финляндии или о том, что, по моему мнению, следует считать надлежащим государственным поведением, они бы застыли в недоумении и уж точно больше никогда бы не захотели консультироваться со мной».31 Иначе говоря, идеология нашей юриспруденции невольно подразумевает реализацию права как чего-то материального, в рамках, если можно так сказать, автоматического, автономного поведения некой овеществленной сущности – в противоположность истинной природе и функции права как отправной точки для рассуждений, предваряющих любое юридическое действие, как универсальной справочной базы, формы практической реализации которой могут, впрочем, существенно отличаться друг от друга.
Ограничения же, проистекающие из лингвистической природы права, непреодолимы: смысл языка формируется его пользователями, при этом сама практика, ее бесконечный процесс привносит в смысл все больше и больше вариативности. Что касается универсальной и объективной, то есть как бы независимой от всех и вся, лингвистической формулы, то она является не более чем иллюзией, неизбежно заложенной в идеологии человеческой коммуникации, ведь эта формула складывается исключительно из речевых актов, производимых индивидами, – под влиянием конкретной ситуации и в зависимости от личной заинтересованности в каком-либо из способов ее разрешения. Поэтому за любой лингвистической универсалией всегда стоит некий конкретный, опирающийся на реальность и нуждающийся в выражении частный опыт. Следовательно, на какие бы принципы, правила и заключенные в них понятия мы не ссылались в рамках права, они не обладают кодифицированным локальным значением, поэтому их посылы связаны друг с другом не определяющим, а только более или менее убедительным образом.
Поэтому то, что в конкретной ситуации представляется «хорошим юридическим аргументом», на самом деле существует не само по себе, а является отражением определенного (только этого и никакого другого) практического опыта. За ним не стоит ничего иного, кроме относительно постоянного комплекса взаимосвязей, который складывается из актуальных результатов действия всех факторов, играющих роль в формировании такого опыта, в конкретный момент времени, в конкретном месте, в контексте конкретного рода занятий, и именно поэтому он является безопасным и в значительной степени предсказуемым с точки зрения человеческой практики. Это то, что современная английская и американская литература называет каноном. Не каноном, в первоначальном значении подразумевающим сознательное наделение нормативным статусом некоего авторитета, который впоследствии служил бы квазиаксиомой в установленной им же самим зоне действия, а каноном, рождающимся подобно понятию regula в римском праве32 – как определение, которое задним числом описывает уже сформировавшуюся практику, чтобы придать ей экономичный вид для передачи в качестве успешного примера, опыта и урока грядущим поколениям.
Но если уж это происходит в отсутствие истинной связи, вне обязательного следования правилам логики, то в силу вступает собственное усмотрение, которое можно свободно наполнить смыслом, более не ограничиваясь вышеупомянутыми рамками. Таким образом, предметом борьбы сторон становится реализация варианта правового решения, отвечающего их интересам. Однако в системе самореализации права33 таковым может быть только вариант, имеющий обоснование; это обоснование может опираться исключительно на правовые термины и логически проистекать из них согласно принятой практике (канону).34 В силу этого независимо от степени ясности, однозначности и определенности языкового выражения альтернативные решения будут возникать всегда: теоретически они существуют в любой ситуации.
Поэтому символически каждое решение сродни переводу железнодорожной стрелки,35 новое направление которой – поскольку ход истории невозможно повернуть вспять – само становится отправной точкой для принятия любого последующего решения. Однако объяснить окончательный мотив или критерий того, почему этот перевод стрелки случился именно так, а не иначе, невозможно исходя из собственно права. Таким образом, вопреки иллюзии автоматического функционирования права, которое как бы само порождает свой собственный результат, конкретно этот (а не иной) результат на деле является плодом выбранной техники.36
В основе вопроса на самом деле всегда лежит неопределенная (непрерывно формирующаяся) зависимость между языком и риторикой, используемыми правом, и логикой, которая подсказана идеологией и может быть реконструирована позже. В пору национальных кодификаций и особенно в эпоху экзегетики, которая сводила само понятие права к позитивному праву, не могло даже возникнуть сомнений в самодостаточности письменного права. Мысль о том, что практика правоприменения привносит в правовой процесс дополнительное содержание, зародилась только к концу XIX века, на заре т. н. «движения в пользу свободного права», в ходе переосмысления права, вызванного к жизни изменениями в социально-экономической среде. Но то, что само это дополнительное содержание тоже представляет собой правотворчество, сформулировал в первой трети ХХ века Г. Кельзен. Его утверждение сыграло решающую роль, потому что с этого момента стали открыто признавать многоступенчатость процесса создания права.
С философской точки зрения, в основе этого вопроса лежит способ проявления «общественного бытия», которое, само по себе не обладая физической данностью, материализуется в виде институтов, условностей, идеологем и множества прочих продуктов «второй реальности», созданной человеком. Причем они – не просто фантасмагории, а реально существующие явления. Ведь следует понимать, что в обществе существует то, что обладает воздействием. Начиная с этого признания, право трактуется уже не просто как язык, лингвистический продукт (текст) и т. п., но как живой многопоточный процесс, протекающий на множестве площадок в ходе совместной деятельности многих участников, – как один из творцов нашего общественного бытия. Этим объясняется, что в наши дни, с позиций онтологической трактовки права, мы рассматриваем правообразующую роль профессиональной идеологии юриста наравне с его правоприменительной и конкретизирующей деятельностью.
Основу этой онтологичности составляет сама природа права как умственного представления, выраженного языковыми средствами и имеющего смысл только в рамках коммуникативного процесса. Герменевтические корни этого явления опираются на простую мысль: в мире значений – а в нашей социальной реальности нет компонента, который не зависел бы от восприятия, – не существует такого понятия, как ноумен, или Ding an sich (вещь в себе). Любое явление воспринимается только в рамках традиции осмысления, а она, наследуясь и передаваясь в определенном состоянии, в ходе определенного действия, непрерывно формируется. Но не вокруг чего-либо, не для пополнения чего-либо, как и не в ходе упразднения [Aufhebung] этого чего-то для его увековечения. Это осмысление включается в процесс в своем актуальном на данный момент состоянии, переходит в новое актуальное состояние и становится отправной точкой для следующего этапа. Его можно сравнить с игрой в города: каждый участник продолжает нечто, начатое до него, а всякое продолжение одновременно является началом для чего-то нового.37 Причем все это разворачивается в какофонии одновременно происходящих событий: то, что в данный момент времени участник может воспринимать как симфонию, складывается из бесконечной массы мгновенных проявлений, из их нарастающего и ослабевающего колебания то в одном, то в другом направлении и из их влияний, наслаивающихся друг на друга. В конечном итоге реконвенционализация, имеющая место во время такой «игры в города», определяется выбором из бесконечного числа возможностей, т. е. сознательным решением человека.38
Специфика нашей проблемы состоит в том, что язык права является формальным: он содержит тексты, имеющие характер нормативных. Однако, несмотря на то что этот текст является критерием реализации права, для применения к рассматриваемой ситуации его необходимо конкретизировать. Ведь такой текст – не более чем шаблон: его нужно сначала наполнить смыслом, а это возможно только в рамках «двух последовательных этапов процесса создания права», в ходе так называемого правоприменения.39 Его логика аналогична логике собственного усмотрения: это не призыв к волюнтаризму и не его апология, а всего лишь признание очевидности того, что значимость самой по себе нормы как текстового корпуса ограничивается нормативным руководством.
Это действительно означает открытость – с точки зрения специфической гомогенности права. И, каким бы произвольным это формально ни казалось, именно не с точки зрения волюнтаризма, а с точки зрения самоопределения — социального самоопределения реального процесса, т. е. с позиций общественной конвенционализации.40 Приобретение нормативного статуса – только отправная точка для правового акта, жизненный цикл которого продолжается до его реализации, по замыслу и в конечном итоге – в единстве law in books (права в книгах) и law in action (права в действии). Это объясняет, почему в процессе применения права на практике мы аргументируем свои доводы практическими рассуждениями (а не средствами демонстрации, как в математике),41 и то же самое повторяется, когда в официальной мотивировке приговора, спрятав, как под маской, муки, предшествующие его рождению, логика решения проблемы уступает место исключительно логике обоснования.42 Иными словами, его целью является не логически замкнутое, строгое и обязательное следование букве (или сделанное на этой основе заключение), а выбор наиболее убедительного из вариантов, доступных в конкретной ситуации и при конкретных обстоятельствах. Ясно, что речь здесь идет не об ошибочном или безответственном действии какой-либо из составляющих и еще менее – о влиянии злонамеренного умысла участников. Как для любого общественного института, это является единственной возможностью для права, которое представляет собой плод человеческой деятельности и потому всегда управляется человеком независимо от степени своей материализации и овеществленного функционирования.
(Тем более парадоксально, что фактическая мера и частота правовых (ин)новаций в судебной практике не находится в прямой зависимости от предоставленных для этого полномочий. При этом наиболее распространенным и безответственным способом поведения является уход под прикрытие обезличенных, абстрактных правил и автоматизма. Это имеет место там, где, не признавая того (поскольку это неприемлемо), можно увильнуть от всякого намека на личную ответственность, укрывшись за безличностью правоприменения, или, вернее, его пародии.43)
В рамках логико-лингвистической реконструкции функционирования права переход от гетерогенной формы языкового выражения к гомогенной обычно называют скачком и преобразованием [jump/transformation]; речь идет о таком процессе, когда ситуация, описанная на языке-объекте, на метаязыке права квалифицируется как пример одной из заранее кодифицированных ситуаций. Анализ с позиций философии права позволяет утверждать, что это не гносеологическая операция (понимаемая в терминах «истинно/ложно»), а онтологический акт (называющий себя subsumptio, а на деле проявляющийся как subordinatio), т. е. категоризация – действие, олицетворяющее волеизъявление того, кто принимает решение.44 Когда же по образцу права осуществляется редуцированная гомогенизация гетерогенности реального жизненного конфликта, то одновременно происходит и его деполитизация. И все же парадокс любого замещающего (заменяющего) человеческого действия состоит в том, что как только нам удалось, если можно так сказать, вывести право из-под юрисдикции политики, внутри его самого немедленно обнаруживается политическая составляющая (вместо захлопнувшейся символической двери она проникает туда через окно). Это происходит из-за того, что для повторного вторжения создаются новые предпосылки. Конституционное судопроизводство, процессы внутренней правовой гармонизации в государствах, присоединяющихся к Европейскому Союзу, правовые основы централизованной системы управления Европейским Союзом, практические аспекты реализации требований, якобы связанных с правами человека, – все это, помимо прочего, наиболее ярко свидетельствует о том, что любой постулат права, т. е. присвоение феномену статуса существующего как способ принятия виртуального (хотя и конвенционализированного) бытия, уже сопряжен с правовыми последствиями, причем еще до того, как в гомогенном мире права вступит в действие закон, создающий для этого необходимые предпосылки.
Несмотря на это, в вышеупомянутых процессах скачка и преобразования внешние гетерогенные стимулы социальной неоднородности и целерациональное действие самого права проявляются одновременно, а специфичность права состоит в том, что в случае вмешательства права как гомогенной/гомогенизирующей среды результат этого вмешательства сможет проявиться только и исключительно в этой среде. Однако и здесь происходит своего рода магическое действо, ведь de jure право не может обладать двойственностью, а de facto осуществляет активную деятельность; из всего этого окружающий мир увидит лишь исключительно формализованные символы, замещающие акт сокрытия.45 Это то, что предстанет перед глазами как решающий фактор, – предпосылка принятого решения, которая на деле была лишь формой, придавшей содержимому «товарный вид». В этом смысле можно сказать, что право – это не то, что оно вербально «выражает», а, скорее, среда, ссылаясь на которую ее процессуальный агент, действуя в рамках своей юрисдикции, в момент, когда для этого настанет время, объявит вердикт, который прозвучит от имени этого права (как его следствие и т. п.).
Что же мы имеем в итоге?
Инструмент или средство никогда не бывает самостоятельным; его актуализированное положительное или отрицательное значение всегда определяет человек, пользователь. Двадцатый век в Америке начался под знаменем social engineering (прикладной социологии). Под эгидой науки это также подразумевало биологизацию и дарвинизм, попытки перенести на социум методы евгеники (перенос и стерилизацию), накопленные в области селекции растений и животных.46 Пока Рузвельт в «Новом курсе» (New Deals) пытался проводить свои революционные нововведения также в политическую жизнь, ища альтернативы весьма зачаточным проявлениям «демократии» и «парламентаризма»,47 как советская, так и нацистская идеология определяли себя термином «социальная инженерия», пользуясь, к тому же, классическими методами, изобретенными в Западной Европе. Ведь теоретически любое техническое решение всегда имеет две стороны.48
Иначе выражаясь, всякий инструмент может с равной эффективностью обслуживать любые идеологические и практические цели.49 Поэтому можно сказать, что пресловутая вредоносность «формализма, позитивизма и прочих преданных анафеме „-измов“ могла проявиться не в вакууме, свободном от взаимосвязей, а наоборот – в рамках собственной социально-политической матрицы, созданной факторами времени, места и роли, которая имела решающее значение для формирования соответствующей моральной среды».50
Инструмента, который не был бы нейтральным – поливалентным в своей многофункциональности, то есть применимым для решения диаметрально противоположных задач и в зависимости от этого приобретающим положительное или отрицательное значение, – не существует. Связав себя путами континентального менталитета, например, наше традиционное сознание автоматически ассоциирует предоставление судам любых дополнительных полномочий с угрозой произвола и непредсказуемости, в то время как историческая мудрость многовекового британо-американского правового уклада свидетельствует о том, что «система, основанная на прецеденте, служит в первую очередь не расширению судебной власти, а ее ограничению».51
Наше настоящее выглядит неоднозначно в «пылу момента». Для него характерно нагромождение самых разных устремлений, а любое устремление как естественный путь развития всегда имеет реактивный характер. И это понятно, ведь в его основе лежит размышление над актуально существующей проблемой в попытке дать на нее ответ. Оно инициирует противоположное движение, контрформулировки.52 В котле нашего современного развития кипят те же эмоции, решительный настрой и прогрессивные тенденции, что и в любую другую эпоху с конца XIX века. Начиная с американского правового реализма и европейского свободного права, через т. н. многогранность, вызванную необходимостью подтверждения социального обоснования права,53 до различных течений прагматизма и, таким образом – за счет снятия всевозможных проявлений формализма – до объявления правоприменения многофункциональным, многоролевым, многофакторным общественным консенсусом54 история формирования концепции правового мышления по сути остается неизменной: она отражает всю нечеловеческую трудность задачи, схожей по сложности с лавированием между рифами, нанесенными на карту еще тысячелетия назад.
Библиография:
1. Варга Ч. Подводные камни правового позитивизма (взаимно опровергающие и взаимодополняющие теории Кельзена и Шмитта) / Е.А. Вансяцкой, М.Н. Павловой; отв. ред.: М.В. Антонов; под общ. ред.: М. В. Антонов. Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Алеф-Пресс", 2015. – С. 255-272.
2. Варга Ч. Природа прав человека // В кн.: Загадки права и правового мышления / Перев.: А.В. Кресина; отв. ред.: М.В. Антонов; под общ. ред.: М. В. Антонов. Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Алеф-Пресс", 2015. – С. 224-231.
3. Варга Ч. Цели и средства в праве // В кн.: Загадки права и правового мышления / Перев.: Е.Г. Самохина; отв. ред.: М.В. Антонов; под общ. ред.: М.В. Антонов. Общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Алеф-Пресс", 2015. – С. 173-185.
4. Conklin W.E. The Phenomenology of Modern Legal Discourse: The Juridical Production and the Disclosure of Suffering. [Applied Legal Philosophy], Aldershot & Brookfield USA: Ashgate/Dartmouth, 1998.
5. Dworkin R. Law’s Empire. [Fontana Masterguide], London: Fontana, 1986.
6. Fish St. Doing What Comes Naturally: Change and the Rhetoric of Theory in Literary and Legal Studies. [Post-contemporary Interventions], Durham – London: Duke University Press, 1989.
7. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Helsinki: Finnish Lawyers’ Pub. Co., 1989.
8. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. [Reissued with a New Epilogue.] Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2005.
9. Langer S. Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942.
10. Oppenheim A.L. Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization. [1964.] Rev. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
11. Pound R. Law in Books and Law in Action // American Law Review. 1910. Vol. 44, № 1. – P. 12–36.
12. Varga Cs. Codification As A Socio-historical Phenomenon. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1991.Varga, Cs. The Place of Law in Lukacs’ World Concept. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1985.
13. Varga Cs. A Theory of the Judicial Process. The Establishment of Facts. Budapest: Akadémiai Kiadó 1995.
14. Yankelovich D. The Idea of Human Nature // Social Research. 1973. Vol. 40, № 3.
References (transliterated):
1. Varga Ch. Podvodnye kamni pravovogo pozitivizma (vzaimno oprovergayushchie i vzaimodopolnyayushchie teorii Kel'zena i Shmitta) / E.A. Vansyackoj, M.N. Pavlovoj; otv. red.: M.V. Antonov; pod obshch. red.: M. V. Antonov. Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Izdatel'skij Dom "Alef-Press", 2015. – S. 255-272.
2. Varga Ch. Priroda prav cheloveka // V kn.: Zagadki prava i pravovogo myshleniya / Perev.: A.V. Kresina; otv. red.: M.V. Antonov; pod obshch. red.: M. V. Antonov. Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Izdatel'skij Dom "Alef-Press", 2015. – S. 224-231.
3. Varga Ch. Celi i sredstva v prave // V kn.: Zagadki prava i pravovogo myshleniya / Perev.: E.G. Samohina; otv. red.: M.V. Antonov; pod obshch. red.: M.V. Antonov. Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Izdatel'skij Dom "Alef-Press", 2015. – S. 173-185.
4. Conklin W.E. The Phenomenology of Modern Legal Discourse: The Juridical Production and the Disclosure of Suffering. [Applied Legal Philosophy], Aldershot & Brookfield USA: Ashgate/Dartmouth, 1998.
5. Dworkin R. Law’s Empire. [Fontana Masterguide], London: Fontana, 1986.
6. Fish St. Doing What Comes Naturally: Change and the Rhetoric of Theory in Literary and Legal Studies. [Post-contemporary Interventions], Durham – London: Duke University Press, 1989.
7. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Helsinki: Finnish Lawyers’ Pub. Co., 1989.
8. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. [Reissued with a New Epilogue.] Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2005.
9. Langer S. Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942.
10. Oppenheim A.L. Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization. [1964.] Rev. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
11. Pound R. Law in Books and Law in Action // American Law Review. 1910. Vol. 44, № 1. – P. 12–36.
12. Varga Cs. Codification As A Socio-historical Phenomenon. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1991.Varga, Cs. The Place of Law in Lukacs’ World Concept. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1985.
13. Varga Cs. A Theory of the Judicial Process. The Establishment of Facts. Budapest: Akadémiai Kiadó 1995.
14. Yankelovich D. The Idea of Human Nature // Social Research. 1973. Vol. 40, № 3.
ISSN: 2307-521X (печатная версия)
ISSN: 2307-5201 (электронная версия)